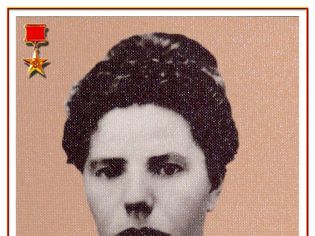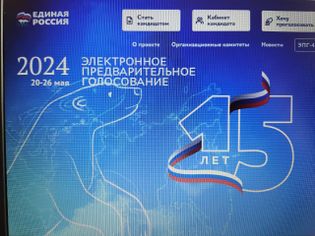Ацидантера (I часть)
ЧАСТЬ 1
ГЛАВА 1
Кроны вековых лип, склонившихся над маленькой железнодорожной станцией, гудели мириадами покрытых золотистой пыльцой мохнатых пчёл, сосредоточенно собирающих нектар с душистых, зноем и мёдом пахнущих цветов, салатовыми мотыльками вспорхнувшими на припылённо-изумрудные сердечки листьев.
Казалось, этим насекомьим труженицам нет никакого дела и до необычно большого скопления людей на деревянном перроне, и до сверкающего начищенной медью духового оркестра, надрывно звучащего под палящим июльским солнцем. Жизнь пчёл текла своим чередом. Жизнь маленького российского посёлка, как и всей огромной страны, круто изменилась ранним воскресным июньским утром: новобранцев провожали на большую войну.
— Да не плачь, глупая! Ты даже соскучиться не успеешь, как мы уже вернёмся. Сейчас навтуляем фрицам, чтоб неповадно было в следующий раз, мало им не покажется. Мы там не какая-то гнилая Европа, фашисты ещё не поняли, куда рыпнулись! — весело говорил Андрей, обнимая Альку. Она, по-девчачьи худенькая, крепко сжимала рукав его новенькой гимнастёрки, и слёзы горошинками скатывались по её ещё детским бледным щекам. Андрей сверху вниз посмотрел в Алькины зеленые, с кофейными крапинками, глаза, наполненные невыносимой тревогой и неутешным горем, почти сливающиеся с цветом его солдатской гимнастёрки; на её усыпанный веснушками, покрасневший и распухший от слёз нос. — По-быстренькому загоним немчуру назад, в Берлин, да и вернёмся, не реви ты.
В эти минуты Андрей испытывая мальчишеский восторг, был по-телячьи счастлив. Ему и его закадычному другу детства Севке удалось обмануть военкома: приписав себе год, они новобранцами ехали бить фашистов. Ехали, вот же наивные идиоты, в твёрдой уверенности, что совсем скоро война закончится и они с Севкой вернутся домой героями, в орденах и медалях. Вот тогда уж Андрей с Алькой обязательно поженятся, построят большой и светлый дом, нарожают самых красивых на свете детишек, которые будут похожи на неё, на Алю. И мечты обязательно сбудутся: Алька станет врачом, Андрей — лётчиком. Какая у них будет счастливая семья!
Друзьям выдали одну винтовку на двоих, десять патронов к ней; оружие им предстояло добыть в бою. Ещё в вагоне Севка предложил бросить жребий: кому — винтовку, а кому — штык от неё. Андрею достался штык. Через двое суток, под станцией Ярцево, налетевшие «Юнкерсы» вдребезги раздолбали эшелон, на котором их дивизию везли на передовую. Всё смешалось: рёв пикирующих самолётов, вой падающих бомб и их оглушительные разрывы, отчаянные крики раненых, последние хрипы умирающих. Андрей и Севка вместе со всеми бежали в лес, подальше от искорёженных вагонов, спотыкались, падали в мягкую зелень наливающейся соком пшеницы и поднимались снова, не замечая тех, кто навсегда остался лежать на этом поле. До спасительного леса оставалось совсем чуть-чуть, когда из ложбины наперерез бегущим красноармейцам двинулись немецкие самоходки. За ними ровными шеренгами, как на параде, в полный рост и в полной боевой выкладке маршировала гитлеровская пехота. Севка присел на одно колено, прицелился, но потом резко отбросил ружьё в сторону: “Не могу стрелять! Это же люди,” — и в то же мгновение был прошит очередью немецкого автоматчика. Андрей подхватил упавшего друга, голова его безвольно опрокинулась навзничь, а на синеющих губах Севки лопались кровавые пузырьки.
От этого страшного, неотвратимого дыхания смерти ледяной глыбой сковало внутренности Андрея, скулы свело судорогой, рот наполнился жидкой, кислой слюной и неукротимая рвота вывернула наружу содержимое желудка. Утерев лицо грязными, испачканными землей и сажей руками, Андрей выдернул из-под Севки измазанную кровью винтовку.
— А, сволочи!!! Нате, держите! — Не считая выстрелов, Андрей выпустил в приближающихся врагов все патроны, видел, как упал здоровенный фриц, сам почувствовал сильный толчок в плечо, жгучая боль полыхнула багровым пламенем в глазах, и он повалился рядом с Севкой.
Очнулся Андрей в сумерках. Где-то далеко чернели исковерканные остовы вагонов, дымилась сгоревшая на корню пшеница, затянув гарью лощину и обломанные деревья ближайшего леска.
— Есть кто живой? — услышал он чей-то голос.
— Здесь я. Я живой. Помогите, — просипел Андрей. — И друг мой, Севка, тоже здесь. Убили его. — горько, по-детски, заплакал Андрей.
Война всей своей звериной жестокостью за один укус сожрала Севкину жизнь и беззаботную юность Андрея.
ГЛАВА 2
Из медсанбата он вернулся в свою роту. Теперь он видел, что до конца этой проклятой войны пройдёт ещё не один год.
Осенью их дивизию, укомплектованную необстрелянными новобранцами-сибиряками, сразу с марша отправили на прорыв блокады Ленинграда. Когда-то Андрей с Алькой мечтали побывать в этом великом городе, и вот он ехал освобождать его.
Шли ожесточённые бои, наши войска выгрызали деревню за деревней, оттесняя фашистов, и в феврале казалось, что прорыв близок. Красноармейцев не останавливали ни морозы, ни глубокие снега, ни болота, ни шквальный огонь, ни бомбёжки врага.
Весной гитлеровцы сомкнули кольцо и советские войска оказались в окружении, тогда же перестали поступать боеприпасы и продовольствие. Немцы, чувствуя своё превосходство, расстреливали наших солдат, как куропаток. Бомбили, перепахивая лес вдоль и поперёк. Наконец из штаба командарма поступил приказ отступать. Красноармейцы прорывались маленькими группами: раненые, голодные, оборванные, вымокшие до последней нитки. Разлились реки, топи стали непроходимыми. В весеннем пустом лесу солдатам приходилось есть всё, что находили: мох, сныть, черемшу, молодые хвойные веточки, крапиву и лягушек. Андрея, вероятно, спасала полученная в детстве прививка голодом: его организм переваривал всё. Невыносимо тяжело было преодолевать дремучие заросли, совсем не похожие на прозрачный березняк, росший по берегам речки его детства. В непролазных чащах ноги проваливались по колено в глубокий мох, мины и снаряды, попадая в него, как в вату, не взрывались. Днём бойцы старались преодолеть как можно большее расстояние. Немцы уже контролировали все дороги, поэтому приходилось обходить их по болотам. Одолевали комары и мошкара, они жрали даже сквозь плащ-палатку, проникали в любую щёлочку в одежде. В сумерках лес погружался в промозглый холодный туман. От него все намокали ещё больше, не имея никакой возможности обсушиться. Удушливый дым от взрывов стоял вперемешку с трупным смрадом. Убитых и раненых никто не убирал, в неразберихе отступления их бросили на произвол судьбы.
Все эти месяцы Андрей держался только мыслями об Альке. Не имея возможности написать письмо, как заклинание произносил он слова любви и одну просьбу: “Дождись, любимая моя Алька!”. Когда же было совсем плохо, говорил с ней, и ему казалось, что она слышит, понимает и помогает ему. “Вот добьём фашистов и я вернусь. Обязательно вернусь”. Он вспоминал их последнюю ночь перед отправкой на фронт. Единственную, стыдливую, такую счастливую и незабываемую ночь. Вспоминал запах Алькиных пшеничных волос, шёлковую нежность кожи, хрупкие тонкие пальчики. У него никого на свете нет, кроме Альки, она для него всё: свет, воздух, семья, душа, сама жизнь… За всё это время Андрей успел получить от Альки единственное письмо. Его треугольник, бережно хранимый в нагрудном кармане гимнастёрки, стёршийся на сгибах, вымокший в долгих блужданиях по фронтовому лесу, слипшийся и потёкший фиолетовыми разводами округлых букв, стал единственной связующей ниточкой с мирной жизнью, с любимой Алькой, с надеждами на счастливое будущее. Андрей наизусть помнил всё, что писала ему в этой весточке Аля: о том, как любит и как ждёт его возвращения. Назойливой мухой в памяти крутилась и тревожила душу некоторая странность этого письма. Почему-то Алька писала о себе “мы” — “Возвращайся, мы ждём тебя». Почему — “мы”?
В живых от роты Андрея осталось четверо, спустя две недели блужданий по лесу они встретили замкомандарма Алферьева и комполка Ефимова с двумя автоматчиками. Контуженный и потому оглохший Ефимов на тело под гимнастёрку намотал знамя полка. До линии фронта оставался совсем немного, когда под вечер нарвались на немецкий патруль. Наши автоматчики отстреливались до последнего патрона, потом Алферьев поднял всех врукопашную и они одержали свою последнюю в этих боях победу. Захватили оружие и двинулись дальше, ориентируясь на звуки боя. Андрей немного отстал, пытаясь ремнем приладить оторвавшуюся подошву ботинка. В этот момент раздался взрыв, потом сразу ещё несколько. Когда оглушённый, присыпанный комьями грязи Андрей очнулся, всё вокруг было в свежих воронках. Рядом на обломанном кусте ракиты листочком размером с детскую ладошку качался лоскуток полкового знамени. Значит, они на минное поле выскочили, а там минировали и наши, и фрицы. У Андрея обгорело лицо, в голове надсадно звенело миллионами комариных писков, и он не понимал, куда двигаться дальше. На обломанном дереве под сникшим полотнищем парашюта Андрей увидел запутавшиеся в стропах останки лётчика. Кругом взрывы, бомбёжка и ни одной живой души рядом. Липкий, парализующий волю страх охватил всё существо Андрея, и он не выдержал. Нащупал в кармане гимнастёрки Алькино письмо, разулся, сел, прислонился спиной к берёзе. Дулом к подбородку приладил ствол немецкого карабина. В этот момент из болота, из дымного марева появился старик, молча сел рядом, убрал винтовку.
— Не надо, сынок, ты ещё не прошёл свой путь до конца. Тебе, поди, и восемнадцати нет? Вот и мой Матвейка на фронт сбежал, год себе приписал и сбежал.
Старик сдёрнул парашют, обрезал стропы, прикрыл лётчика мхом, на берёзу примотал остатки его портупеи: “Выбьем фашистов, вернёмся сюда и похороним героя. Парашют нам пригодится, мы ещё повоюем. Дай-ка я тебе ботинок подмотаю, видишь, совсем раззявился. — Он подвязал подошву куском стропы. — По дороге нельзя идти, будем по болоту пробираться. Там мин нет. Немцы чистоплюи, они в болото не совались. Ты след в след за мной ступай, а я слегой тропу нащупывать буду. Прорвёмся, сынок. Меня Егором зовут”.
Уже в полной темноте вдвоём они перебрели болото, двинулись через заросли ивняка дальше, выбрались на поляну и попали прямо в расположение немцев. Рванули назад, отстреливались, пока не закончились патроны. До спасительного подлеска оставалось не больше десяти шагов, когда Андрея ранило в бедро — пуля, не задев кость, прошла навылет. Егор легко мог уйти один, он же, подхватив Андрея, помогал ему идти. Но что могли противопоставить экипированному до зубов взводу сытых немцев двое человек безоружных, голодных, измотанных? Избив, их обыскали: книжки красноармейцев и чёрные солдатские карболитовые медальоны перекочевали к оберлейтенанту, комочек Алькиного письма полетел в костёр. Андрей бросился отнимать его, но в тот же миг под улюлюканье и дружный хохот немцев здоровенным рыжим детиной одним ударом он был сбит с ног. Вскоре Андрея и Егора загнали на огороженную колючей проволокой поляну, которая уже была густо усеяна нашими пленными бойцами: ранеными, обгоревшими, контуженными.
— Ты чего на фрица кинулся? — перевязывая Андрею ногу оторванной от нательной рубахи полосой, спросил Егор. — Бумажка, что ль, важная какая? Или жить надоело?
— Письмо это.
— Из дома?
— Не твоё дело. Какой смысл в такой жизни? Сидеть и ждать, когда сами сдохнем? Мы никому не нужны! — глотая слёзы, выкрикнул Андрей.
— Ну, так уж и не нужны. Будет контрнаступление, нас отобьют. А тебя мамка дома ждёт, семья.
— Нет у меня мамки. И семьи нет. Детдомовский я.
— Так письмо-то от кого? От невесты… — догадался Егор.
— Чё ты лезешь? Чё надо? Нет у меня теперь никого. И невесты нет.
— Это откуда ж ты узнал, что и невесты нет?
— Сама написала. Возвращайся,— пишет,— “мы тебя ждём”. Кто — “мы”? У неё тоже никого нет: ни отца, ни матери. Я ж не дурак, что я — не понимаю?
— Видно, чего-то не понимаешь. Если пишет, что ждёт, значит, так оно и есть. Чего взъерепенился? Чего к слову докопался? А может... А может, у вас было чего, а? Ну там, понимаешь, о чём я? — и Егор положил испачканную землёй и кровью ладонь на плечо Андрея.
— Говорю, не твоё дело. Чё пристал? — дёрнул тот плечом, смахивая руку Егора, и отвернулся.
— Вот уж точно, дурак ты. Женилка-то отросла, а ума не нажил. Молодец девка, уважаю таких! Как невесту зовут-то?
— Алькой, — недоумённо произнёс Андрей. — Это ты о чём сейчас?
— Да о том, дубина, что дитё она ждет. Потому и пишет “мы”. Брюхатая она, твоя Алька. Вот я про что толкую.
— Да как это? Разве ж это возможно? Так я ж... Да мы...Это ж когда было-то, ещё год назад, в июле, перед отправкой на фронт.
— А письмо когда писано?
— В декабре, перед новым годом получил.
— Давно уж опросталась твоя Алька, где-то по весне родила. Вот ты тут сопли распустил, жить не хочешь, а она там, с малым, горе бедует да беду горюет. Дурень, тебе во что бы то ни стало выжить надо. Дитё у тебя растёт, ему без отца никак нельзя. Ты, милок, в ноги должон своей Альке поклониться за подвиг её. В военное время, да в одиночку незамужняя девка на такое дело решилась. Это мужество нужно иметь, не в пример нашему. Сама-то впроголодь поди там, а дитю всё отдать нужно, его выкормить да выпестовать.
— Дитё? Как дитё? Сын или дочка? — ошалело спросил Андрей. — У меня — дитё? А я-то думал... такого, дурак, надумал, хоть стреляйся. Не, теперь я точно жить буду. Назло вам, суки, жить буду. Раз у меня вон какое дело! — Андрей, опустив голову, чтобы не выдать набежавших слёз, пожал Егору руку.
Потянулись однообразные, унылые, отчаянные дни плена. Сначала все жили ожиданием контрнаступления наших войск и надеждой на быстрое избавление из неволи, но постепенно гул орудий всё отдалялся и отдалялся, самолёты всё реже и реже пролетали над местами бывших боёв, пока, наконец, не наступила тишина...
Огороженный в четыре ряда колючей проволокой, с вышками по углам, лагерь просуществовал до осени. Немцы пунктуальны. Ровно в шесть утра в любую погоду они проводили поверку. Пленных поделили на сотни. По два-три часа их держали в строю, пересчитывали, сортировали, а потом снова пересчитывали. Совсем слабых гитлеровцы приказывали вытаскивать за изгородь и там их просто пристреливали. Ровно в двенадцать узникам на десятерых выдавали по буханке черного хлеба с опилками и бочонок воды из речки — на каждую сотню. Из веток и парашюта Андрей с Егором соорудили укрытие, и в нём вся их сотня по очереди пряталась от непогоды. Егор, охотник из Сибири, учил выживать в лесу. Хвойные иголки и мох он измельчал в кашицу, приматывал её к ранам Андрея, и они начали заживать. В конце сентября всех погнали на станцию. Пытавшихся бежать травили собаками и расстреливали на месте. На станции загрузили в вагоны для перевозки скота и повезли на запад. Пленных было так много, что сидеть на полу они могли по очереди, приходилось стоять. Везли долго, больше недели, раз в сутки давали воду, и один раз за весь путь буханку черного заплесневевшего хлеба на десятерых. Умерших складывали в углу вагона. Много раз теплушку перецепливали, так что они не понимали, в какую сторону идёт состав. На рассвете их выгрузили на перроне Страсбурга. На площади всех долго пересчитывали, потом загнали в автофургоны и снова куда-то везли. По натужному гулу моторов чувствовалось, что дорога петляет и поднимается в гору. Так Андрей с Егором попали в концлагерь Натцвейлер-Штрутхоф.
ГЛАВА 3
Этот лагерь был одним из секретных объектов Рейха, здесь содержались заключённые со всей Европы, в том числе и немцы. Самая тяжёлая участь постигла советских узников, цыган и евреев, все остальные получали посылки из Красного креста. Французы иногда втихую делились едой и лекарствами с русскими.
Здесь находилась медицинская лаборатория, в которой нацисты ставили опыты над людьми. Те, до кого ещё не дошла очередь стать подопытным животным, должны были из добытого в карьерах камня строить новые блоки для прибывающих пленных, заготавливать дрова для крематория и других потребностей великого Рейха, наводить на территории порядок. Немцы любят порядок. Существование пленных складывалось из постоянных побоев, холода, каторжного труда и голода: в день полагалось пол-литра баланды с запахом эрзац-кофе, четвертинка буханки хлеба и литр жидкого вонючего супа из тухлой капусты. Одёжка — пара нательного белья и полосатая холщовая роба, обувь — точёные деревянные колодки или сандалии из прорезиненной кирзы.
Особенно тяжело было зимой. С гор опускались густые туманы, пронизывающий ветер валил с ног; территорию лагеря заваливало сугробами; сильные морозы не ослабевали ни днём, ни ночью; из-за разреженного воздуха и голода ещё сильнее кружилась голова. В любую погоду в шесть часов утра и вечером — после работы — заключенных выстраивали на на поверку, выматывая душу и отнимая последние силы. По часу, а зачастую и дольше, пленных пересчитывали, сортировали и снова пересчитывали.
Хуже всех приходилось женщинам. В лагере их находилось немного, в основном сюда привозили молоденьких девушек. Каждый день несколько женщин переводили в особое помещение рядом с казармой охраны. А через сутки их, уже полуживых, в вагонетках перевозили в лабораторию, в которой заправлял доктор Хирт. Немцы методичны. Каждый день группу узников отправляли в медицинский блок и каждый день их мёртвые тела в вагонетках вывозили в крематорий. Часто от трупов шёл сильный запах чеснока. “Это иприт так воняет, — растолковал Егор, — у меня отец с германской войны вернулся газами травленый”.
С самого первого дня Андрей с Егором искали удобный случай для побега; с территории лагеря сбежать было практически невозможно, слишком уж хорошо он охранялся. Призрачная возможность для бегства представлялась только во время работы вне лагеря, на заготовке дров или в каменоломне. Но и здесь никому из смельчаков не удавалось отбежать дальше, чем на сто метров. Там проходила вторая линия охраны. Овчарки поднимали лай, и конвоиры открывали стрельбу на поражение.
Работавший уборщиком в комендатуре поляк Збышек однажды рассказал, что по радио выступал какой-то генерал Власов: он собирает русскую освободительную армию. “Мудрый человек этот генерал, — промолвил поляк, — для вас, русских, это единственный шанс гарантированно выйти отсюда живыми. Вы видите, чем заканчиваются побеги. А из его армии сбежать будет проще. Это уже не концлагерь”. Андрей с Егором много думали, спорили и не знали, как поступить. Когда же провокатор выдал группу советских офицеров, готовивших побег, и в течение недели этих людей истязали перед строем всего лагеря, а потом всех казнили, друзья решили, что другой возможности выйти отсюда живыми не будет и сегодня, на вечерней поверке они объявят о своём желании служить в армии Власова. Значит, это судьба. В плен они попали с Власовым. Возможно, сейчас он даст им шанс на избавление из неволи. Выбраться бы из-за колючей ограды лагеря, а там их уже никто не удержит.
В этот день их команда работала в каменоломне. Киркой и клиньями они отбивали глыбы гранита и грузили их в машины. Розовый гранит везли на станцию Рото, оттуда по железной дороге в Нюрнберг для облицовки стадиона. Нюрнберг должен быть великолепен. Обычный камень на тачках узники отвозили в лагерь. Там строился ещё один блок и новый крематорий. Немцы хозяйственны. По правилам, при возвращении из карьера в лагерь, всех пленных обязывали нести в руках большой камень, либо, с заготовки дров, бревно. Один из охранников, Гюнтер, отличался особенной жестокостью и коварством. Любимым его развлечением было устраивать побеги заключённых. Гюнтер плечом сталкивал узника с обрыва и уже влёт стрелял по падающему человеку, после чего рассматривал очередную жертву; очень гордился собой, если попадал в голову или в сердце. На этот раз таким беглецом он выбрал Егора. С гибелью мудрого друга жизнь Андрея стала бессмысленной и невыносимой. Ночью он выл в тощий тюфяк с остатками пыльной соломенной трухи, лишь под утро забылся тяжёлым мороком.
Андрею приснилась Алька. Она стояла на утёсе по колено в бурлящей воде, а горный поток падал отвесно по высокой-высокой скале. Длинная белая рубашка намокла, её волосы растрепал ветер, и Андрей не мог увидеть сквозь них Алькино лицо. В руках она держала белый тряпичный свёрток, качала его и что-то пела. Андрею показалось, что это ребёнок, он хотел рассмотреть, кто это — мальчик или девочка. Во сне отчего-то всё возможно, и Андрей приблизился к Альке, в руках же у неё оказался не ребёнок, а берёзовая чурочка, и она гладила её по берестяной щёчке и пела колыбельную. А потом Алька крикнула ему: "Догоняй, Андрей!" и соскользнула вниз, в водопад и только белый сверток и её рубашка крутились в водоворотах, пока не скрылись за порогами. Андрей захлёбывался немым бессильным криком, будто это он сам тонул.
ГЛАВА 4
Наутро, на построении, к их шестому блоку пришёл офицер с золотым пенсне, в начищенном мундире, сверкающем блестящими пуговицами, в фуражке с лихо изогнутой тульей, в высоких глянцевых сапогах. Рядом с офицером ступал холёный сытый дог, всем своим видом презирающий пленных. В тонких, каких-то женских, обтянутых изящными кожаными перчатками пальцах доктор Хирт держал стек — металлический гибкий прут с резной костяной рукояткой. Немцы брезгливы. Хирт выбирал себе подопытных узников, и остриё стека уперлось в грудь Андрея. Ему оказали особую честь стать экспонатом анатомического музея в медицинском университете Страсбурга. Хирту понравился скелет.
Немцы расчётливы. Чтобы узника сожгли в крематории, он обязан накануне заготовить дрова, потому пленных погнали в горы на новую делянку. Андрей с удивлением увидел, до чего же красивы эти заросшие густым лесом невысокие Вогезы; клубящийся в долинах туман, розовый в лучах восходящего солнца; услышал многоголосье лесных птиц. И даже концлагерь, ступенями спускающийся по склону горы, с его серыми вышками, виселицей, расстрельной ямой, газовой камерой, сладковатым дымом крематория, показался ему каким-то игрушечным, ненастоящим; цепочка охранников с овчарками вокруг каменоломни и их делянки — оловянными солдатиками из додетдомовского детства. Облака потихоньку расходились, день обещал быть тёплым, солнечным.
Середина июля. Двенадцать месяцев чистилища подходили к концу. Андрей мысленно вернулся к долгим разговорам с Егором. Как-то, в момент абсолютного отчаяния, тот спокойно сказал ему:
— Так уж Господом заведено, что не дано человеку знать час своего конца. И уж тем более грешно этот час самому себе назначать. Ты лучше молись, сынок.
— Кому молиться? Бога нет.
— Бог есть. И неважно, как его зовут. Христос ли, Магомет, Будда. Хоть ржавому гвоздю в нарах, но молись. Бог всегда рядом. Он как воздух. Воздух же невидим, но без него не прожить. Как вода. Она и напоить тебя может, а может и утопить. Но без неё не выжить.
— Да не умею я молиться.
— Как можешь, так и молись. Что на сердце легло, то и говори... А слова нужные сами придут. За Альку свою молись, за дитё.
— Не верю я в твоего Бога. Если он есть, как он такую войну допустил?
— Бог строгий родитель. Тот даже своё самое любимое дитё за непослушание ремнём выпороть может, для науки. Вот и нас сейчас этим огненным ремешком Господь научает. За церквы порушенные. За нами преданных и убиенных царя с царицей и их ребятишек. Вот как омоемся мы своей кровушкой, да со слезами раскаемся в содеянном зле, тогда и прощение нам будет. Прижмёт Всевышний нас, неразумных, к своей душе да приголубит, утешит и слёзы осушит.
— Когда это будет?
— А ты не думай. Ты верь, что оно — утешение — будет. Каждому раскаявшемуся будет, только срок у каждого свой.
— Что же тебя, такого верующего, твой Бог не уберёг от плена? Или он про тебя забыл?
— А и я не без греха, что скрывать. Дуняшу мою не берёг, не жалел, ласковых слов не говорил. У меня на уме только тайга да охота были. Никогда я не думал, как она там с пятью ребятишками мается. А может, вот сейчас Господь меня к тебе послал, а кого другого к моему Матвейке приставил? Не знаю. Я у Бога самая малая козявка. Но одно знаю точно: внутри каждого человека свой Бог есть. Внутренний. И он всегда рядом, он человека никогда не покидает. А имя ему — совесть. Даже если никого рядом нет, никто не видит и не знает, она, совесть, изнутри каждую думку взвешивает, каждой место находит: худая она или добрая. Если человек совесть свою блюдёт в чистоте, она тогда ангел-хранитель его, а уж если замарает, изгадит её, то превратит в беса. Тут уж он человека в бездну утянет и там сожрёт.
— Легко говорить — верь. Нас учили, что Бога нет.
— Ты не думай. Просто верь, сынок. Вера дарит надежду, а это великое дело. Надежда укрепляет силы. Силы нам с тобой ещё очень пригодятся. Нам выжить надо, фашистов добить ко всем чертям, да домой вернуться, мирную жизнь настраивать. Вот мне сорок лет. А что я видел в своей жизни? Что я дал желанной моей Дуняше? Где сам побывал, что узнал? Крохи житейские собрал, и всё.
С того разговора прошёл год.
— Вот и неправ ты, Егор. Знаю я свой последний час, и осталось до него всего ничего. Сядет солнышко, отгонят меня под ледяной душ, а потом, как бычка за ноздри — на живодёрню к мяснику. Немцы педантичные. У них всё по порядку. Так и закончится моя жизнь. А ты, Егор, уже на небе? — взглянув наверх, спросил Андрей и осёкся.
По высокой, отвесной, отполированной до глянца стене утёса пока еще тонкими нитями робко струилась вода и терялась в узкой горловине глубокого ущелья. “До водопада, — прикинул Андрей, — метров сто, не больше”.
Довольный Гюнтер наигрывал на губной гармошке песенку про тоскующую Эрику*. У него был повод для хорошего настроения: вчера он снова получил премию за предотвращение побега — две бутылки шнапса, триста граммов баварской колбасы и шесть сигарет. Время от времени он доставал из подсумка колбасный кусок и бросал его своей овчарке. Не спеша, собака разжёвывала угощение, тягучие слюни капали на рыжие лапы, а мозг Андрея обволакивало чесночным запахом иприта. Гюнтер перехватил взгляд Андрея и расщедрился, отрезал почти прозрачный кружочек, бросил его и захохотал: “Friss, Schwein!”**. Андрей поднял подачку, очистил её от опилок, поклонился немцу.
Солнце пригрело сильнее, водопад забурлил в полную силу. Сверкающие струи переливались всеми цветами радуги, сильный шум падающего с большой высоты потока заглушал мелодичное повизгивание двуручных пил, стук топоров и лай собак. Приходилось быть настороже, чтоб не попасть под падающее дерево. Сегодня Андрей трудился лучше всех, его топор смачно вгрызался в сырую древесину сосен, на краю делянки быстро росла гора обрубленных веток. Даже Гюнтер снисходительно похлопал Андрея по плечу. Эрика в исполнении охранника всё тосковала и лила слёзы.
День подходил к концу. Гюнтер отрезал для овчарки еще кусок колбасы, и пока та сосредоточенно жевала его, привязал поводок к сосне, сам же завернул за кучу валежника справить малую нужду. Немцы хорошо воспитаны. Андрей быстро нанизал на прут свой уже подсохший колбасный ломтик, помахал им перед носом овчарки, и, положив приманку в полуметре от собачьей морды, тенью скользнул за кучу валежника. Топор был тяжёл и остро наточен, руки выполнили привычную работу. Тоскуй и плачь, Эрика.
ГЛАВА 5
Засыпав мертвеца лапником и сунув под кучу свои деревянные колодки, Андрей тихо растворился в густом подлеске и, укрывшись большой сосновой веткой, не выпуская из рук топор, рванул к водопаду.
Он свободен. Пускай это и последние минуты его жизни, но они пройдут на свободе. На делянке переполох, уже ищут Гюнтера. Спустят собак, сначала они найдут труп, а потом колодки узника.
На вершине водопада под ногами Андрея сияло облако солнечных брызг, а дальше — буруны порогов и водовороты омутов. “Ну, с Богом!” — шагнув вперёд, в радугу, он скользнул по ледяной струе. Андрею казалось, что он летит целую вечность. Ухнуло и замерло сердце, холод стиснул голову, лёгкие разрывались от невозможности выдохнуть — затем ноги коснулись дна. Глубокая чаша, за тысячелетия выбитая в скале струями воды, была устлана мелкой отполированной галькой, и она показалась Андрею тёплой и мягкой. Он оттолкнулся и, вынырнув, вздохнул, ожидая увидеть над собой разъярённые хари фрицев. Однако над Андреем нависала скала: он всплыл в гроте, отгороженном от ущелья пенящейся струёй воды.
Сорвав ногти, он вскарабкался на круглый валун в глубине грота. Судороги сводили мышцы ног, от холода и пережитого напряжения всё тело колотила крупная дрожь. Немного привыкнув к сумраку, Андрей увидел в бурлящем водовороте свою сосновую ветку. Раздевшись донага, он снова опустился в воду и достал ветку. Отдышавшись, Андрей нырнул второй раз, отыскал топор, и, сидя на валуне, обрядил ветку в лагерную полосатую робу, соорудив подобие чучела, а затем крепко перевязал всё полоской ткани, оторванной от своей нательной рубахи. Сверху на скале замелькали тени конвоиров, искавших сбежавшего узника. Андрей изловчился и вытолкнул чучело за пенный бурун. Взмахивая рукавами, “утопленник” соскользнул по камням вниз и рухнул со следующего порога. Андрей видел, как взвились фонтанчиками брызг автоматные очереди, тени двинулись вниз по течению. Фрицы пытались догнать стремительно уплывающий от них экспонат анатомического музея. Он понимал, что скоро обман раскроется и тогда поиски возобновятся с новой силой, потому времени осталось немного.
Холод был нестерпим. Андрей, отжав исподнее, надел его; разминая мышцы, растёр тело руками, и приседал, сколько хватило сил. Нечеловеческие условия заключения: постоянный холод, ежедневные умывания ледяной водой и такой же ледяной душ, — оказывается, закалили его.
Сквозь пелену воды Андрей внимательно рассматривал и запоминал все
выступы и трещины на скалах. Солнце перевалило за гору и пришла спасительная ночь. Чёрная, усиленная высокими стенами ущелья. Когда стемнело совсем, поток воды иссяк и шум почти утих, Андрей приладил топор к поясу и медленно, прислушиваясь к каждому шороху, стал карабкаться вверх по почти отвесной стене. Выбрался на утёс. Камень был тёплый, от него шёл сладковатый аромат лесной подстилки, перепревшей хвои, самой жизни. Андрей некоторое время ящерицей лежал на валуне, не в силах справится с ознобом. Далеко внизу, в туманной дымке, неясными огоньками светился лагерь. Визгливо лаяли овчарки, охранники и капо гортанно выкрикивали команды. Там сейчас шла вечерняя поверка. Наощупь, цепляясь руками за кусты, Андрей двинулся руслом ручья вверх по склону. К полуночи над вершинами деревьев выкатилась луна: круглая и пятнистая, она заботливо осветила окрестности. Андрей вдохнул тёплую сырую тишину. Идти стало легче. Представилось, что он — совсем один в этом мире, а вокруг бесконечные лесные заросли с запахами тёплой земли, спелой земляники, зелёных листьев, неведомых цветов. И над ним — улыбающееся “цыганское солнце”.
Андрей добрался до перевала, путь пошёл под уклон, и можно было даже бежать. Неумолчно звенели цикады, где-то ухал филин. Впереди, в прогалке между валунами мелькнули тени. Андрей притаился, приник к стволу высокой раскидистой сосны, сжал в руке топорище. На освещённую яркой луной поляну вышла волчья пара. Впереди, принюхиваясь и прислушиваясь, неслышно скользил матёрый волк, а чуть поодаль, след в след, двигался зверь поменьше, вероятно — волчица. Они приблизились к нему метров на пять, Андрей слышал их дыхание, чувствовал тяжёлый смрад падали и псины. С минуту они в упор смотрели на него, Андрей ждал нападения и приготовился отбиваться. Звери же повернулись и медленно скрылись в ближайших зарослях. Минуту спустя раздался треск сучьев, шум погони, отчаянно закричало какое-то раненное животное, злобно рычали хищники. Волки нашли более упитанную жертву. Андрей выждал некоторое время и осторожно двинулся дальше по склону. Теперь он постоянно оглядывался и вслушивался в звуки леса.
Далеко внизу неясным всполохом мелькнул огонёк костра. Лавируя между деревьями, Андрей подкрался ближе. У огня на плоском валуне лицом к нему сидел старик. Он задумчиво ворошил горящие угли, пламя взмывало вверх золотыми лисьими хвостами, искры угасающими звёздочками таяли в предрассветном небе. Когда-то, в другой жизни, Андрей с Алькой также жгли костёр на берегу речки, пекли в углях картошку. Как же это было вкусно, и как же это было давно. К кострищу бочком притулился закопчённый чайник. У ног старика по-медвежьи вальяжно разлёгся огромный тёмно-серый пёс. Передними лапами он держал большую розовую кость и с наслаждением отрывал от неё тонкие полоски сухожилий и прозрачные ломтики мяса. По всему было видно, что пёс этот сыт и доволен своей жизнью, а эта сахарная мясная кость для него просто забава. Хозяин время от времени что-то говорил, обращаясь к собаке, и та, внимательно слушая старика, поднимала свою массивную голову, и тяжёлые складки кожи на шее колыхались в такт её движения. В стойле, освещённом пламенем неяркого костра, угадывалась отара овец. Старик потянулся к чайнику, налил себе в большую глиняную кружку кипятка, и, держа её двумя руками, медленно, с наслаждением отпил.
В этот момент неожиданный и невыносимо острый голодный спазм пронзил внутренности Андрея. Он застонал и оступился, а под его ногой громко хрустнула ветка. Пёс насторожился, привстал, вздыбил шерсть на загривке и, прижимая к земле мускулистое тело, пружинисто заскользил в сторону Андрея. Старик схватил с камня двустволку и легко отпрянул в темноту, удаляясь от костра.
Андрей хотел крикнуть: “Не стреляйте!”, — но губы спеклись, пересохли, и получилось только невнятное глухое мычание. Он поднял руки, шагнул в круг света. Топор выскользнул из его руки и со звоном ударился о камень, высекая искры. Андрей сделал ещё один шаг и осел в тёплую, мягкую пыль. Последнее, что выхватило его угасающее сознание, — вскрик старика: “О, Санта Мария!”, — и бархатные губы собаки, обнюхивающей его лицо”.
ГЛАВА 6
Солнце перевалило за экватор. Отара овец разбрелась по небольшой поляне на склоне горы. Старик сидел в тени под ветвями разлапистой сосны, вертел в руках причудливо изогнутую корягу, срезал с неё лишние сучки, остругивал почерневшую кору и тихо напевал какую-то ритмичную песенку о летящем вороне и ветре свободы***. Через полчаса на его ладони уже стояла изящная балерина. Старик, довольно крякнув, положил фигурку в заплечную холщовую сумку, из-под натруженной мозолистой ладони посмотрел вниз, на ферму, где его младший сын Жюль заканчивал верстать новый стог сена. Зорко отслеживая каждый шаг парня, рядом с ним крутился их любимец Джек, массивный пёс волчьей масти. От его внимания не ускользнули встревоженные чьим-то присутствием сойки, взметнувшиеся над вершинами деревьев выше по склону горы. Джек поднял голову и негромко, но грозно зарычал в сторону леса. Вскоре между деревьями показалась цепочка серо-зелёных эсэсовцев с автоматами наизготовку и овчарками на поводках . Видно, что они были заняты поисками. Старик поднялся и суетливо засеменил навстречу немцам, взглядом отыскивая их командира.
— Господин офицер, вы что-то ищете? Может, я могу быть вам полезен? — спросил старик по-немецки.
— Да, мы ищем убийцу, сбежавшего вчера вечером из лагеря. Это русский бандит, он вооружён топором, очень коварен и жесток.
— О, господин офицер, вполне вероятно, я знаю, о чём вы говорите. Пойдёмте со мной, я вам сейчас всё покажу. — И старик, подволакивая ногу, засеменил вверх по склону, подобострастно заглядывая в лицо немцу. — Может, господин офицер будет так щедр и великодушен и заплатит мне за информацию о бандите? Немного, тридцать-сорок рейхсмарок так порадуют старика. Или бутылочку шнапса, господин офицер? Мы уже скоро будем на месте, это совсем недалеко. Вон там, на поляне.
За огромным валуном, среди примятой травы и изломанных кустов подлеска валялись изодранные в клочья остатки окровавленного нательного белья и топор, рукоятка которого была испещрена следами острых зубов. На самом камне, на стволах сосен, на земле темнели крупные бордовые брызги. Несколько полосато-жёлтых ос деловито отгрызали кусочки уже подсохшей плоти и уносили их к себе в гнездо. Рыжие лесные муравьи облепили свою добычу и волокли её в сторону муравейника.
— В последние годы в наших лесах расплодились волки. Сущая беда, даже днём нападают на овец! Приходится круглые сутки охранять стадо. Этой ночью я услышал рычание и жуткие крики. Вероятно, беглеца растерзали волки. Страшная смерть.
— Это лучший исход по сравнению с тем, что ждало бы его при поимке. Русский убил лучшего охранника нашего лагеря. Заберите топор, — распорядился офицер сопровождавшим его солдатам. — Возвращаемся в гарнизон. Держи, старик, твои тридцать марок.
— Благодарствую, господин офицер! Старый Луи всегда готов служить новой власти, — Старик смиренно поклонился вслед уходящим немцам и вполголоса добавил: — Чтоб вы сдохли. — Не поднимая головы, он сплюнул себе под ноги.
Ближе к вечеру пастух молодцевато, в два пальца, свистнул и с фермы отозвался глухой бас Джека. Пёс вприпрыжку бежал на зов хозяина.
— Ну, собирай своих подружек, гони их в стойло, — Луи ласково потрепал мощный загривок собаки.
Несмотря на внушительные габариты, пёс быстро обежал поляну, собирая в плотное стадо разбредшихся овец, и, легко покусывая их за ляжки, погнал к загону. Из шалаша навстречу старику вышел Жюль, подбросил в костёр хвороста и помешал кипящую в котле похлёбку.
— Ну, как он? — спросил Луи, кивая головой в сторону свежесвёрстанной копны.
— Бредит. Кажется, это русский. Жар сильный. Нужен доктор.
— Да, верно, это беглый русский. По его душу приходили немцы. Молодец, он на прощание грохнул охранника концлагеря. Наш спектакль удался: особенно эсэсовцев впечатлил топор, лужи крови и ошмётки рубахи. Джек — просто зверь, следы его зубов от волчьих не отличишь. Мне, кстати, еще и тридцатку удалось с немцев стрясти. Будет нашему русскому компенсация на лекарства. — Луи хохотнул. — Пока не стемнело, собирайся в город, к Николь, пусть она беглеца посмотрит. Заодно отвезёшь баранину мяснику. Скажешь, что овца захромала, пришлось прирезать.
ГЛАВА 7
Сквозь полузабытьё Андрей чувствовал, как чьи-то сильные руки приподняли его голову с мягкой, приятно покалывающей овечьей шкуры и аккуратно, буквально по ложке влили в рот тёплую, густую и слегка солоноватую жидкость, чередуя её с горячим, душистым, чуть горчившим чаем. Человек о чём-то говорил: то ли спрашивал, то ли объяснял, но смысл этих слов не доходил до затуманенного сознания. Тяжелейшая усталость навалилась на всё тело, задавила собой эмоции, желания, мысли. Чудилось Андрею, как его, уже опухшего от голода, мать кладёт в повозку, на прощание крестит высохшей пожелтевшей рукой и целует в лоб сухими, горячими, потрескавшимися губами. Зелёная муха надсадно жужжит над его лицом, садится на щёку, и у Андрея нет сил её смахнуть. По-хозяйски ощупывая хоботком истончённую до прозрачного пергамента кожу, муха приноравливается найти себе пропитание. Повозка трогается, мать прощально вскрикивает и бессильно опускается в раскалённую дорожную пыль. То ли в воспалённом мозгу, то ли в безбрежно-синем небе заливается песней любви невидимый жаворонок, скрипят колёса телеги. Рядом тяжело, по-старушечьи, вздыхает и что-то бормочет такая же, как и он, “шкелетина” соседка Машка, ещё недавно краснощёкая и беззаботная веселушка и хохотушка. Потом выплывает из памяти пахнущий карболкой вагон, белые простыни на полках, и бездонные глаза совершенно лысого мальчика со странным именем Альбина с полки напротив. Санитарка склоняется над Андреем, её мягкие руки нежно приподнимают его голову, вливают по ложке тёплый куриный бульон, и Андрею кажется, что он выпил бы этого бульона целое озеро, но санитарка мягко, настойчиво просит потерпеть, потому что нельзя с голодухи есть много и сразу, что еда теперь будет всегда. Успокаивающий стук вагонных колёс, густой запах угольного паровозного дыма и креозота шпал, мелькание редких станционных фонарей, шуршание белой простынки, бесценный маленький сухарик, зажатый во вспотевшей ладони и глубокий, исцеляющий сон. Впоследствии мальчик Альбина оказался девочкой, и там, в детском доме, под большими пахучими липами старого дворянского парка, её волосы быстро отросли золотисто-пшеничными волнами, а зелёные глаза навсегда заполонили сердце Андрея. Вскоре стало известно, что и ему, и соседке Машке некуда и не к кому больше возвращаться. Захлестнуло душу горем. Но детское горе отходчиво. Быстро зарастают новой шкуркой раны на сердце, только рубцы остаются. Новые друзья, новые учителя, новые жизненные обстоятельства вытеснили на задворки памяти прежнюю хуторскую жизнь, тем более, что рядом, рука в руке, его златовласая Алька, и все мечты, все планы исключительно об их совместном счастливом будущем.
Сознание вновь ускользало, наваливалась немочь, откуда-то издалека слышался чей-то зовущий оклик: “Андрейко!”, и невозможно было понять, кто это — мама или Алька. Потом появлялась большая серая собака, она внимательно и с любопытством смотрела в лицо, обнюхивала волосы и своими слегка влажными и теплыми плюшевыми губами щекотала ухо. И снова кто-то сильный приподнимал голову и по ложке вливал в рот что-то теплое, густое и солоноватое. Алькина прохладная ладонь нежно гладила его по воспалённому лицу, её тонкие пальчики перебирали его волосы, от них пахло первоцветами, от этого Андрею стало легко и радостно. Сон, безмятежный и оздоравливающий, тёплым пуховым одеялом окутал Андрея, и впервые за долгое время он не пытался бежать, спасаться, уворачиваться от тяжёлых палок беспощадных капо.
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.